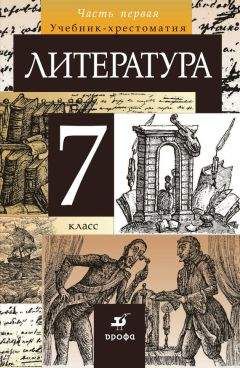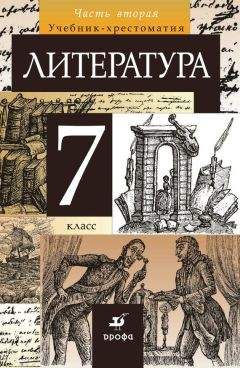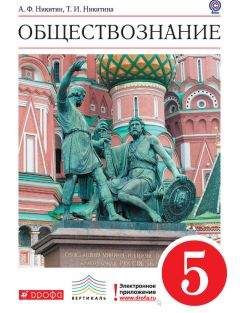Тамара Курдюмова - Литература. 9 класс. Часть 2
Он был похож на человека, который после длительной и тяжкой болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы, – всё в жизни было для него ново, приятно, всё возбуждало в нём шумное веселье – он прыгал по земле, как ракета-шутиха.
Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, весёлой трущобе – «Марусовке», вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоёванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнёв помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна: стол, стул, и это – всё. Три двери выходили в коридор, за двумя жили проститутки, за третьей – чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жёсткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьём; сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и рёбра скелета.
Он питался, кажется, только собственными ногтями, объедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но, из жалости, подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свёртки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары, он, открывая дверь, хрипел в коридор:
– Хлеба!
В его глазах, провалившихся в тёмные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец, с вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на жёлтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной тишине. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика:
– А я говорю – тюрьма! Геометрия – клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!
Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:
– К чёрту! Вон!
Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетайку, – математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, хрипел:
– Эвклид – дурак! Дур-рак… Я докажу, что Бог умнее грека!
И хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.
Вскоре я узнал, что человек этот хочет – исходя от математики – доказать бытие Бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.
Плетнёв работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы, – нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться «слишком рано» и что, даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места – по возрасту.
Плетнёв и я спали на одной и той же койке, я – ночами, он – днём. Измятый бессонной ночью, с лицом ещё более потемневшим и воспалёнными глазами, он приходил рано утром, я тотчас бежал в трактир за кипятком, самовара у нас, конечно, не было. Потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика-фельетониста Красное Домино и удивлял меня шутливым отношением к жизни, – мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.
У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за «квартиру» ему было нечем, и он платил весёлыми шутками, игрою на гармонике, трогательными песнями; когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из её нахальных глаз на пухлые, сизые щёки пьяницы и обжоры обильно катились мелкие слезинки, она сгоняла их с кожи щёк жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.
– Ах, Гурочка, – вздыхая, говорила она, – артист вы! И будь вы чуточку покрасивше – устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношев пристроила к женщинам, у которых сердце скучает в одинокой жизни!
Один из таких «юношев» жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего-скорняка, парень среднего роста, широкогрудый, с уродливо узкими бёдрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен, – ступни ног студента маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом, бескровном лице угрюмо таращились выпуклые, зеленоватые глаза.
С великим трудом, голодая, как бездомная собака, он, вопреки воле отца, исхитрился кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и ему захотелось учиться пению.
Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока, сын её был уже студент на третьем курсе, дочь – кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая, как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие серые глаза, скрытые в тёмных ямах, одета она в чёрное платье, в шёлковую старомодную головку, в её ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зелёного цвета. <…>
Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.
После чая Плетнёв ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или варёной «требухи», мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.
Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам «Марусовки», присматриваясь, как живут новые для меня люди. В нём стояли какие-то кислые, едкие запахи и всюду по углам прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел; непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко декламировал спившийся, полубезумный актёр, истерически орали похмелевшие проститутки, и – возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос:
«Зачем всё это?»
Среди голодной молодёжи бестолково болтался рыжий, плешивый, скулатый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади, – за эти зубы прозвали его Рыжий Конь. Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами, и заявлял всем и каждому:
– Жив быть не хочу, а – разорю их вдребезги! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить, – после того я им ворочу всё, что отсужу у них, всё отдам и спрошу: «Что, черти? То-то!»
– Это – цель твоей жизни, Конь? – спрашивали его.
– Весь я, всей душой нацелился на это и больше ничего делать не могу!
Он целые дни торчал в окружном суде, в палате, у своего адвоката, часто, вечерами, привозил на извозчике множество кульков, свёртков, бутылок и устраивал у себя, в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом, шумные пиры, приглашая студентов, швеек – всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам Рыжий Конь пил только ром, напиток, от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые тёмно-рыжие пятна, – выпив, он завывал:
– Милые вы мои птицы! Люблю вас – честный вы народ! А я – злой подлец и кр-рокодил, – желаю погубить родственников и – погублю! Ей-богу! Жив быть не хочу, а…
Глаза Коня жалобно мигали, и нелепое, скуластое лицо орошалось пьяными слезами, он стирал их со щёк ладонью и размазывал по коленям, – шаровары его всегда были в масляных пятнах.
– Как вы живёте? – кричал он. – Голод, холод, одёжа плохая, – разве это – закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живёте…
И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал:
– Кому денег надо? Берите, братцы!
Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, он хохотал, говоря:
– Да это – не вам! Это – студентам.
Но студенты денег не брали.
– К чёрту деньги! – сердито кричал сын скорняка.
Он сам однажды, пьяный, принёс Плетнёву пачку десятирублёвок, смятых в твёрдый ком, и сказал, бросив их на стол:
– Вот – надо? Мне – не надо…
Лёг на койку нашу и зарычал, зарыдал, так что пришлось отпаивать и отливать его водою. Когда он уснул, Плетнев попытался разгладить деньги, но это оказалось невозможно – они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтоб отделить одну от другой.
В дымной, грязной комнате, с окнами в каменную стену соседнего дома, тесно и душно, шумно и кошмарно. Конь орёт всех громче. Я спрашиваю его: